Анатолий Абрамович Шалыто
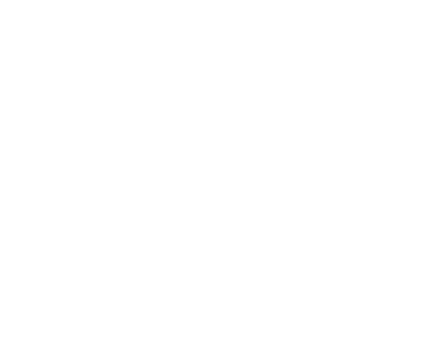
Анатолий Абрамович Шалыто
2023 год объявлен в России «Годом педагога и наставника». Долгие годы я являлся самозванным наставником, так как был связан с командами по спортивному программированию кафедры «Компьютерные технологии» (КТ) Университета ИТМО, которые семь раз побеждали на чемпионатах мира ICPC (International Collegiate Programming Contest). Были и другие крупные достижения в этой области — как командные, так и индивидуальные. Меня часто спрашивали о роли, которую я играл в подготовке команд, а так как я не был их начальником, тренером, врачом или психологом, то стал самозванцем и называл себя наставником.
Кроме этого, появившись на кафедре в 1998 году, я решил обеспечить проведение на ней научных исследований по компьютерным технологиям, так как там проводились работы по физике и оптике, и частично по математике, а кафедра называлась, как указано выше, «Компьютерные технологии». С них-то я и начал свою наставническую деятельность. От соревнований по программированию тогда я был еще очень далек, поэтому для того, чтобы быть полезным и там, сначала требовалось заслужить авторитет у «народа».
Хочу заметить, что мой путь в наставники вряд ли воспроизводим, так как практически все, что я делал, было вопреки общепринятым подходам в образовании. Это во многом было связано с тем, что первые 16 лет я работал на кафедре по совместительству и вечерами. Начинал с преподавания одаренным в точных науках и программировании студентам пятого курса, которые практически все, как и я, днем работали. Преподавал традиционно: читал лекции и проводил курсовой проект по автоматному программированию – научному направлению, которое я предложил и развивал.
Однако дело с курсовиками у меня не ладилось: учитывая позднее вечернее время, я принимал курсовик за 5-10 минут, и какими бы талантливыми ни были студенты, они пользовались этим, и делали нечто, что, конечно же, нельзя было отнести к тому, что допустимо публиковать. Однако я не унывал, так как у меня было два очень толковых аспиранта, обоих звали Никита, первый носил фамилию Туккель, а второй – Шамгунов. В подобной ситуации принято человеку, находящемуся между двумя людьми с одинаковыми именами, загадывать желание, что я и сделал: предложил им преобразовывать курсовые работы студентов в статьи. Оказалось, что преобразовывать-то практически было нечего — приходилось начинать все с самого начала. Ребята на каждую из первых двух работ, чтобы довести их до вида, пригодного для публикации хотя бы в научно-популярном журнале, потратили десятки часов. На этом я остановился, так как решил пожалеть аспирантов (у них было, чем еще заниматься), ведь они не были виноваты в моем и студенческом разгильдяйстве, и решил изменить ситуацию.
В новом семестре, кроме двух групп пятого курса, примерно по 25 человек каждая, у меня появились еще две такие же группы третьего курса. Им всем я предложил разбиться на подгруппы из одного-двух человек, так как сразу же стало ясно, что задания для курсовиков, которые предлагали сами студенты, обычно были не предназначены для подгрупп, включающих более двух человек. Наличие более полусотни подгрупп потребовало моего перехода на шестидневную рабочую неделю… по совместительству. В те годы в будние дни я работал в таком режиме:
с 8:30 до 17:30 — в НПО «Аврора», где у меня была основная работа;
с 17:30 до 18:30 — дорога и короткий ужин;
с 18:30 до 21:30 —общение с одной подгруппой студентов.
В субботу я работал с 10:30 до 21:30. В этот график нужно было еще как-то втиснуть две пары лекций в неделю и много чего еще. Как решалась эта задача, я сейчас уже не могу вспомнить… Видимо, спасало то, что моя основная педагогическая нагрузка была только в одном семестре в году.
Тогда я понял, что существуют две стратегии жизни: отдыхать, чтобы работать, или работать, чтобы отдыхать. Я выбрал первую. При этом на отдых у меня в неделю оставался один день, да и то не всегда. В 1998 году я был еще достаточно молод :-) — мне тогда исполнилось только 50 лет, а в указанном темпе я проработал еще лет пятнадцать и не понимал, почему молодые люди не могут работать так же…
Путь к наставничеству открывался каждый раз, когда я с двумя студентами проводил по три часа. Сначала мы обсуждали выбранную тему, затем они показывали, как работает их программа и выглядит ее интерфейс, а после я их учил, как надо делать проектную документацию на программный проект. Все это требовало передачи многих знаний, включая обучение особенностям русского языка. Быть в напряге все три часа, тем более вечером, было невозможно, поэтому мы также говорили о жизни, узнавая друг друга. Никто не мог сдать мне курсовик – получить разрешение выложить проектную и программную документацию на мой сайт в раздел «Проекты» — менее, чем за три-четыре встречи. При этом вместо первоначальных 5-10 минут я общался c парой студентов 9-12 часов, а сколько времени они тратили самостоятельно, готовясь к нашим встречам, даже трудно представить.
Наш декан Владимир Глебович Парфенов, наблюдавший за этим экспериментом, с одной стороны, удивлялся, как я ловко справляюсь с сотней студентов, а с другой — говорил мне, что трудно представить большую пытку для двадцатилетнего программиста, чем грамотное написание текста по-русски, а также аккуратное и правильное оформление проектной документации на программный продукт.
Ясное дело, что за семестр, на который был рассчитан курсовик, практически никто не успевал его завершить . Я не кровожаден. Поэтому вопрос об отчислении студентов, которые не закончили работу в срок, не стоял — всем, кто работал, я ставил зачет. В этот момент у любого читателя этой истории может возникнуть вопрос: чем мотивировались студенты, получившие зачет, для того чтобы после этого закончить проект? Ответ прост: знание — сила. Они знали, что я буду заместителем, а то и председателем аттестационной комиссии при приеме их бакалаврских работ…
Так «закалялась сталь», а я становился наставником большого числа студентов, ведь в результате наших бесед я находил ребят, склонных к научной работе, а также близко знакомился с теми, кому я сильно мешал — студентам, которые серьезно готовились к олимпиадам по программированию, а я своим курсовиком отнимал у них много времени.
Именно это противоречие между проектным и соревновательным подходами, которые формируют у студентов взаимодополняющие качества, послужило основой для присуждения нам в 2008 году премии Правительства России в области образования.
В то время я сформулировал инициативу «Сохраним в университетах лучших!», смыслом которой было сделать все возможное, и даже больше, чтобы на постоянной работе на кафедре оставались студенты, аспиранты и выпускники, склонные к преподавательской, научной и олимпиадной деятельности. Я ставил себе эту задачу ввиду того, что многие студенты чуть ли не со второго курса норовили (норовят и сейчас) пойти куда-то работать, не говоря уже об аспирантах и выпускниках. Поэтому надо было сделать всё, чтобы для как можно большего числа талантливых в указанных областях молодых людей «куда-то» было нашей кафедрой. При этом естественно, что все эти три направления работ очень редко интересовали и были посильны для одного человека, но были и такие. Чаще всего встречались «двоеборцы», «одноборцами» у нас бывали лишь некоторые ученые.
Когда круг студентов, которые хотели заниматься наукой о компьютерных технологиях, был сформирован, я отдал руководство указанным курсовиком двум своим выдающимся выпускникам, которые резко повысили эффективность его выполнения, заменив мою «тягомотину» компьютерным тестом. При этом, правда, мотивация заниматься наукой и обучение многому важному в жизни исчезли от слова «совсем», так как выпускники проверяли знания студентов, а я еще и жизни учил… Вместо «ехать» остались одни «шашечки», но зато какие красивые, а главное — модные.
Отмечу, что для меня в наставничество входило и добывание денег для сохранения лучших на кафедре. Я их добывал двумя способами: за счет выигрыша различных научных грантов и «принуждения» руководителей компаний, заинтересованных в наших студентах, к финансовой помощи молодым сотрудникам, оставшимся работать на кафедре. Свою позицию в этом вопросе и тогда, и сейчас я формулирую так: «Нельзя вырастить урожай, сжирая весь посевной материал». Существуют, правда, и другие методы привлечения денег на кафедру, но я пользовался указанными двумя.
Часто находились IT-директора-умники, которые говорили мне, что они кафедре помогать не будут, так как являются честными налогоплательщиками, а мы должны получать деньги из бюджета, сформированного, в том числе, и за их счет, а если нам денег не хватает, то мне советовали обращаться к депутату Государственной Думы по месту жительства. Однажды, после такого разговора, и на моей «улице» наступил праздник. Он произошел, когда сотрудница одной из таких компаний заговорила со мной о студентах, а я послал ее точно по тому адресу, по которому предложил мне идти ее начальник. Несмотря на все трудности, иногда «принуждение» встречало понимание, особенно когда «принуждаемые» узнавали, что стипендии, устанавливаемые ими, для студентов и аспирантов не облагаются налогами!
А вот мнение по этому вопросу Андрея Владимировича Иванова из компании JеtBrains, который всё всегда в этом вопросе понимал правильно:
После изложенного я как наставник еще больше активизировался, что закончилось тем, что 15 марта 2018 года я в числе первых трех в стране был награжден новой государственной наградой — знаком отличия «За наставничество».
До этого я стал наставником по линии русской православной церкви, а потом дважды — по линии ICPC.
Теперь расскажу о своих «наставнических» принципах.
- От моей аспирантки Арины Буздаловой я узнал, чем я, по её мнению, занимаюсь на кафедре. Оказывается, я «создаю атмосферу успеха». Ее супруг, тоже мой аспирант, Максим Буздалов при этом уточнил, что, если есть атмосфера, то есть чем дышать, иначе — кранты. Существуют различные ответы на вопрос, что характеризует наставника. Исходя из изложенного, я принял такое определение: «Наставник — это человек, создающий атмосферу успеха». Это определение применительно ко мне начало прививаться в ИТМО и не только.
- Несколько слов о воспитании. Сейчас педагогическая общественность ведет дискуссию о том, где надо молодежь воспитывать. Многие считают, что вуз является образовательным, но не воспитательным учреждением, другие относят сказанное и к школе, утверждая, что воспитание должно осуществляться в семье. Я соглашаюсь с первыми, но при этом помню, что в соответствии с законом «Образование — это воспитание плюс обучение» (именно в таком порядке). Поэтому как человек законопослушный я занимался воспитанием молодежи и буду этим заниматься впредь, до тех пор, пока закон в этой части не откорректируют, но и тогда, если еще буду жив, мне придется нарушать его.
В современных условиях огромное внимание уделяется преподавателям-практикам, которые обычно являются совместителями. Однако надежда на них, как на воспитателей молодежи, мала, так как «на бегу», как однажды сказал мне студент-спортсмен, Борис Ярцев, нельзя обучать даже бегу. Вот как охарактеризовал образование «на бегу» академик РАН, генеральный конструктор атомных подводных ракетоносцев С.Н. Ковалев: «В этой ситуации еще как-то можно обучать, но нельзя воспитывать».
Расскажу об одной моей наставнической находке. Более десяти лет назад среди продвинутой IT-молодежи, было модно читать журнал «Компьютерра», который издавался на бумаге, а новый номер каждую неделю продавался в киосках. Я стал посылать туда статьи, многие из которых печатали. Мало того, что это нравилось мне само по себе, я считал, что это помогает воспитанию окружающих меня ребят, до которых мои «нравоучения», купленные в киоске за деньги, должны доходить лучше, чем когда они то же слышали непосредственно от меня бесплатно.
Однако, я никогда не считал, что «нравоучения» – это основа воспитания, а отдавал пальму первенства в этом вопросе личному примеру, ориентируясь на армейский приказ: «Делай, как я». И не думайте, что это только армейский приказ – вот, что говорил по этому поводу великий гуманист Альберт Швейцер (1875-1965): «Личный пример – это не просто главный способ повлиять на других. Это просто единственный способ». После этого становится ясно для чего наставнику, и не только ему, необходимо иметь и образование, и воспитание.
3. Как учить? Ответ на этот вопрос я услышал от профессора Владимира Андреевича Тимофеева (1897–1975), у которого я учился в ЛЭТИ и о котором написал текст. По его мнению, учить на лекциях и семинарах недостаточно. Он считал, что основное образование может быть получено при длительном личном контакте преподавателя и студента. Такое образование получил он, почти ежедневно провожая домой более сорока минут одного из создателей плана ГОЭЛРО академика Генриха Осиповича Графтио (1869-1949). Это, в частности, вдохновило меня на создание «конвейера» курсовиков, описанного выше.
4. Кого учить? В этой связи следует помнить: «В образовании важны две вещи. Первая и очевидная: кто и чему учит. Вторая, менее очевидна: с кем ты учишься, с кем общаешься, с кем ты соперничаешь и за кем можешь тянуться. Высококачественное образование нельзя дать кому попало. Нужны люди с соответствующими способностями. Ведь уровень выпускников зависит не только от того, кто преподает, но и от того, кто учится. Я думаю, что элитный коллектив студентов – это как раз одна из тех вещей, за которыми и идут в хороший университет» (Иван Лосев, профессор). Известно также и такое утверждение: «Не важно где, не важно чему, а важно у кого и с кем». Его уточняет выдающийся математик Станислав Смирнов: «Во многих университетах мира проблем найти незаурядных преподавателей по математике и информатике не существует, а вот найти и сформировать группу хотя бы из 25-30 таких же студентов могут только полтора-два десятка университетов в мире» (https://d-russia.ru/zdes-ili-tam.html, https://vk.com/@1077823-zdes-ili-tam). А вот мнение по этому поводу нобелевского лауреата, первооткрывателя структуры молекулы ДНК Джеймса Уотсона: «Я считаю, что качество студентов значит намного больше, чем качество коллег по факультету».
5. Кого учат на КТ? Изложенное в предыдущем пункте понимаем и мы, поэтому и входим в число указанных выше университетов по информатике. Со времен пушкинского лицея известно, что главное в подготовке и сохранении талантов – атмосфера (снова она), обеспечивающая «соударение умов» преподавателей и лицеистов, а также последних между собой. В нашей стране такие условия в основном создавались для одаренных школьников в специализированных учебно-научных центрах при известных университетах и лучших физико-математических лицеях и школах. Назовем условия, созданные в этих учебных заведениях, первым уровнем «соударения умов». При этом, правда, в большинстве из них основное внимание уделялось и уделяется в настоящее время не информатике и программированию, а другим дисциплинам – математике и физике.
С 2008 года мною в рамках инициативы «Сохраним в университетах лучших!» формируется третий уровень «соударения умов», на котором взаимодействуют молодые преподаватели, аспиранты и наиболее сильные студенты, которые работают на кафедре КТ на постоянной основе. При этом я и Парфенов делаем все возможное для обеспечения «соударения умов» молодежи. В ходе формирования второго и третьего уровней указанной «пирамиды» осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов, в том числе преподавателей, проводится различная олимпиадная деятельность и выполняются научные исследования.
Меня тогда осуждали за то, что вместо системного решения вопроса об улучшении качества IT-образования в стране, решаю «местечковую» задачу. Тогда я отвечал так: «Если я стану заведовать кафедрой марксизма-ленинизма, то буду стараться выработать системный подход к решению указанной проблемы, которая не известно, имеет ли решение – это, может быть, алгоритмически неразрешимая задача. Для таких задач обычно решаются их частные случаи». После этого я предлагал оппонентам посмотреть фильм «Спасение рядового Райана», где сначала всем «миром» спасают одного рядового, а уже потом думают о «вечных» проблемах.
И сейчас мое мнение не изменилось, и я стараюсь бороться за каждого способного студента и выпускника кафедры, проявляющего интерес и имеющего успехи в преподавании, олимпиадах или науке. Как говорили древние: «Кто спас одного человека, тот спасает весь мир», так как к «спасенному», скорее всего, потянутся другие молодые таланты, с помощью которых мы, в конце концов, решим не только свой «местечковый» вопрос, но и значительно более крупные задачи.
6. Немного об IT-образовании. Раньше считалось, что программирование – это инженерная область знаний. Сейчас многие считают ее самостоятельной. Поэтому даже в лучших инженерных вузах из учебных программ программистов исключена физика, а против изучения дифференциальных уравнений часто бунтуют студенты. Таких специалистов я называю питонами. Более того, в некоторых вузах студенты даже младших курсов отказываются учить многие предметы, но требуют поставить им тройки, так как уверены, что они их знают, так как работают в престижных IT-компаниях за зарплаты, превышающие преподавательские.
7. О сложных предметах. Изучать сложные предметы сегодня не нравится никому, и, в первую очередь, студентам. Не правится это и работодателям, так как, по их мнению, такие предметы не практичны. С этим согласны также и многие руководители образовательных программ, так как такие сложности могут «оттолкнуть» даже сильных абитуриентов. Им всем как бы в невдомек, что сложные предметы развивают мозг, и этом их главное предназначение, но, известно, что с недоразвитостью мозга не согласится никто, особенно сильный олимпиадник. Именно для развития мозга раньше в гимназиях (а в некоторых – до сих пор) изучают греческий и латынь – и не потому, что кто-то думает, будто все, кто учится, пойдут работать в аптеки провизорами... Указанному отношению к сложным предметам удивляться не стоит, ведь великий французский геометр Гаспар Монж (1746-1818) говорил, что «людям свойственно отвращение к напряжению ума», но добавлял, что «очарование, сопровождающее науку, может победить это отвращение». На том я стоял и стоять буду, сколько смогу.
«Сейчас побеждает простота в самом примитивном значении этого слова» (И. Ясина). Тенденция к отказу от сложности охватывает весь мир, поэтому его сегодня называют и так: «мир ликующей простоты и гопоты!».
8. Теперь о культуре. Если, как отмечено выше, многие противятся воспитанию в вузе то, уж что тогда говорить о повышении культурного уровня студентов. Конечно, у некоторых из них в программе есть такой предмет, как «Культурология», но он мало кому добавляет много культуры. Приведу пример. Он вопиющий. Уже не помню, в каком контексте в разговоре с одним пятикурсником я произнес два «имени»: Микеланджело и Пикассо. Молодой человек «отозвался» на них, но сказал, что не сможет отличить их работы, если они не будут подписаны! (все не так плохо – он хотя бы умеет читать по-русски :-)). Я еще бы понял, если бы этими «именами» были Мане и Моне, но тут… Кстати, никто не знает сохранился ли портрет Мане кисти Моне. Почти рекурсия получилась.
Недавно я, наконец, понял, почему этот студент и многие другие молодые люди впадают в ступор от указанных выше имен. Оказывается, малообразованными являются не они, а я, и их, видимо, сильно удивляет то, что я не знаю очевидного: в последние годы Микеланджело обычно упоминается совместно с Леонардо, Рафаэлем и Донателло, и в этой компании нет никакого Пикассо. Это персонажи мультиков ... про мутантов (!) – черепашек-ниндзя, которые живут в канализации (!) Манхеттена. Поэтому, говоря образно, для многих культуру надо поднимать именно с уровня канализации. Таким образом, если как воспитывать молодых людей я еще знаю, то пример с черепашками приводит меня в тупик…
9. Об изучении истории. Изучать историю необходимо, и не только России, но и той специальности, которой человек собирается посвятить жизнь. На матмехах и в медицинских вузах такой предмет есть, а у инженеров его почему-то нет. Поэтому, кто такой Вирт (кстати, почетный Доктор ИТМО) и даже Шеннон мало, кто из студентов сегодня знает!
10. О невозможности похвалить. Рассказывают, что китайские и эквадорские профессора испытывают «горловые» проблемы, когда они говорят по-английски. У меня много знакомых, у которых близкие проблемы, так как они почти никогда не могут похвалить заслуживших это людей даже из своего окружения. Возможно, здесь дело не в физиологии, а в дефиците хороших слов, выделенных им Богом на похвалы другим людям. На меня такого ограничения ни по хорошим, ни по плохим словам, которые должны услышать люди, если они того заслуживают, никто не накладывал…
11. Проверяйте свою «писанину». Известно, что ошибки и опечатки в электронных письмах раздражают Илона Маска до такой степени, что порой он не способен прочесть сам текст со всеми вытекающими отсюда последствиями. У меня это вызывает желание съязвить, и я обычно это желание не сдерживаю.
12. Не используйте аббревиатуры, кроме общепринятых (таких, как например, СССР, РФ, ВМФ, ПО). Расскажу историю на эту тему. Молодой человек показал мне текст на русском языке, в котором было сказано, что ВВС рекомендует 200 книг для прочтения. Я подумал, что руководствувоенно-воздушных сил совсем нечем заняться, и оно принялось за образование народа. Я высказал это предположение молодому человеку. На этот раз удивился он и спросил: «Причем здесь военно-воздушные силы?». Через некоторое время он все понял и пояснил мне, что этот список составила вещательная корпорация из Англии, название которой имеет ту же аббревиатуру, но ... на английском языке.
Одно из самых знаменитых писем Илона Маска имело тему: «Запрещаю аббревиатуры, достали». Он пишет: «В компании распространяется тенденция придумывать сокращения. Причем бывают случаи, когда дебильная аббревиатура произносится дольше полного названия! Когда сокращения сочиняет тысяча человек, нам скоро придется издать толстый словарь для новых сотрудников. Никто не помнит всех сокращений, а люди не хотят на совещаниях выглядеть дураками, и поэтому просто сидят, ничего не понимая. Необходимо немедленно прекратить эту практику. Если сокращение не будет одобрено мною лично, оно не должно использоваться в компании». Понятно?
13. О мотивации. Сегодня считается, что многим для успешной учебы, особенно дистанционной, не хватает мотивации. Я понял это давно, и в 2010 году начал писать «Заметки о мотивации», которые в первом издании содержали 140 пунктов. Число заметок со временем увеличивалось. Сейчас их более восьми с половиной тысяч. Эта книга обладает тем свойством, что ее можно читать с любого места. Заметки, включенные в нее, во многом объединены моей харизмой. Кроме того, существуют также собранная мною коллекция чужих «Высказываний и мыслей» из более чем 3600 заметок, а на сайте http://is.ifmo.ru/ я скоро опубликую около восьмисот «Моих мыслей и шуток».
14. У меня уже много лет из головы не выходит цитата из книги Джерома Сэлинджера (1919–2010) «Над пропастью во ржи»: «Маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи… А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Я понимаю, что это бред, но это единственное, чем бы я хотел заниматься».
Я стараюсь делать то же самое. При этом считаю, что спасение от пропасти — это не значит навсегда остаться в Университете ИТМО. По моему мнению, пропасть — это оказаться там, где нельзя полностью реализовать свои способности, если хотеть их реализовать. В этой ситуации очень важно то, что практически никто из молодых людей сам не просит его спасать, но я не могу спокойно смотреть, как талантливые люди не реализуются в должной мере. Что мне делать в этой ситуации? Смириться и смотреть, как они «разбиваются»? Не дождетесь!
15. В пограничных ситуациях мое поведение, как наставника, во многом напоминает деятельность Печорина, который пытался «влезть в жизнь честных контрабандистов». Это очень сложная психологическая процедура, но без обоюдной честности, ответственности и порядочности я себя в указанной роли не вижу.
16. Ответственность при выполнении обязательств, особенно перед другими людьми, иногда приводит к особым методам воздействия на ребят, которым они далеко не всегда нравятся. В таких случаях мне приходится осуществлять операцию «по принуждению к творчеству». При этом я всегда помню о «тиграх», которые не хотят прыгать сквозь огненные обручи, но им, все-таки, приходится это делать…
17. В результате многолетней схватки за таланты во всемирном масштабе я определил три условия, выполнение которых в ряде случаев позволяет побеждать в ней: пристойная зарплата (достойную зарплату мы можем платить далеко не всегда); возможность львиную долю времени заниматься, чем хотят они, а не тем, что хочу я; отношение к ним как к своим детям. При этом я всегда помню, что люди довольны, когда на работе занимаются тем, чем им нравится, но они счастливы, когда делают то, что хотят, естественно, в определенных рамках, которые в джазе называются «квадратом». Такой подход создает «индивидуальные траектории», но не для студентов, как это сейчас принято, а для научно-педагогических работников вузов.
18. В известных мне компаниях только в Google время от времени 20% рабочего времени сотрудники могут заниматься тем, чем хотят они. Я стараюсь, чтобы у нас пропорция была обратной. Эта пропорция «свободы» и «несвободы» в рабочее время значительно привлекательнее даже той, что есть в большинстве американских университетов, в которых 40% времени нужно преподавать, 20% —заниматься общественной деятельностью (участие в заседаниях, в работе редколлегий, рецензирование статей и т.д.) и лишь оставшиеся 40% посвящать науке. Я разделяю мнение Дэвида Паккарда (1912—1996), который считал, что «работа начальника состоит не в том, чтобы отдавать приказы, а в предоставлении людям возможности эффективно использовать свои лучшие качества».
19. И еще о свободе творчества. Петр Леонидович Капица (1894-1984)считал, что «руководить – это значит не мешать работать хорошим людям». Такого же мнения придерживался и легендарный директор московского лицея «Вторая школа» Владимир Федорович Овчинников (1928-2020), который на вопрос: «Как создать сильную школу?», отвечал: «Набирать хороших учителей и не мешать им работать», а на вопрос: «А что труднее, первое или второе?», сказал: «Сначала первое, а потом второе».
Я с ними согласен, но иду дальше. По моему мнению, слово «работать» у них лишнее! Молодым надо просто не мешать! Я хорошо по себе знаю, как противно заниматься тем, что говорит «дядя», если к этому не лежит душа. Вероятность того, что «дядя» скажет делать Вам то, чем Вы будете с удовольствием заниматься несколько лет, а потом продолжите этим заниматься самостоятельно, крайне низка. Поэтому, если Вам предоставили свободу, радуйтесь этому и много работайте, так как в любой момент добрый «дядя» может поменяться на злого. Через какое-то время Вы, возможно, успеете выйти из «трансформаторного» режима и перейти в «генераторный», и тогда Вас никакой «дядя» не остановит до тех пор, пока Вы не остановитесь сами.
Помните, что Константин Сергеевич Станиславский (1863-2010) говорил: «Ошибка думать, что свобода художника (ученого, А.Ш.) в том, что он делает, что ему хочется – это свобода самодура. Кто свободнее всех? Тот, кто завоевал себе независимость, а она всегда завоевывается, а не дается. Подаренная независимость не дает свободы, так как такой подарок очень скоро может быть утрачен». Помните также, что «нельзя специально оказаться в нужном месте в нужное время, в нем необходимо находиться постоянно».
20. В роли «дяди». Некоторое время я был в роли «дяди», который предлагал молодым людям заниматься автоматным программированием. Однако я понимал, что надо расширять горизонт исследований: сначала мы расширили связь автоматного программирования с искусственным интеллектом, а потом с верификацией. Затем я сделал решительный шаг «за горизонт»: предложил ребятам совместно с сотрудниками академика РАН К.Г. Скрябина (1948-2019) заняться биоинформатикой, которая переросла в системную биологию. Эта не вызвало у моего взрослого окружения ничего, кроме удивления, но «караван» пошел и очень успешно. Все это время я хотел, как Мальчиш-Кибальчиш, «ночь простоять, да день продержаться» — дождаться, когда мои молодые коллеги сами начнут генерировать темы исследований, и я этого дождался!
21. О предательстве. Я стараюсь не быть обузой для молодых людей, в том числе выигрывая индивидуальный гранты, и пытаюсь им во всем помогать. Однако не следует быть и слишком мягким: при предательстве я веду себя решительно и бескомпромиссно. И помните, что если «один раз кто-то от Вас ушел, то уйдет снова – нельзя полагаться на людей, которые предают». «Я ко многому отношусь терпимо, но не прощаю непрофессионализма и предательства» (Юрий Темирканов). Я тоже.
А вот краткое определение этого понятия от актрисы Натальи Гундаревой (1948-2005): «Предательство – это значит, что ты останешься без тылов, что построил свой замок на зыбучих песках». Казалось бы, и всего-то... Предательство можно понять, но нельзя простить.
22. О талантах и гении. Я как-то сказал одной женщине-преподавателю, что Геннадий Короткевич (http://d-russia.ru/a-chem-zanimaetsya-gena.html) – гений. Она ответила, что у нас на кафедре все гении. Я с ней согласился, но заметил, что и гении могут ранжироваться, как, например, орден «За заслуги перед Отечеством», который не только бывает четырех степеней, но еще и имеет медаль ордена двух степеней!
В 2014 году Геннадий, тогда студент третьего курса нашей кафедры, впервые в истории проведения индивидуальных соревнований по программированию в мире победил в «Большом программистском шлеме» – во всех пяти важнейших индивидуальных соревнованиях, проводимых в мире в течение года. Такое название этим соревнованиям (по аналогии с большим теннисом) предложили Парфенов и я.
После этого я написал о Гене статью и отправил в газету «Петербургский дневник», которая выходит массовым тиражом и бесплатно раздается в метро. Ее опубликовали, но как: всю первую страницу занимал главный городской талант – кандидат в мастера вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, а статье о Гене нашлось место где-то значительно «глубже», наряду со статьями о «талантах» из других вузов. Заменить эти «таланты» весьма просто, а вот заменить Гену при необходимости – невозможно. Кстати, Лодыгин поехал нести «доброе и вечное» в турецкий клуб «Газиантеп». Вы слышали о таком клубе? Мне не приходилось...
23. Важное. «В жизни надо стараться быть стойким как дуб и гибким как ива». Заводить хорошие отношения надо не когда Вам стало плохо, а когда было ещё хорошо. Научитесь признавать свои ошибки: «Если Вы не признаете свою ошибку, то знайте, что Вы уже делаете вторую». Также научитесь благодарить. Помните, что учитель не тот, кто учит, а тот, кого обучающиеся считают учителем. Самое ценное, что есть у человека – его репутация.
24. О любви к Альма-матер. 26 сентября 2014 года прошел учредительный съезд ассоциации выпускников Университета ИТМО. Об этом было известно нескольким сотням выпускников нашей кафедры. Пятидесяти из них были посланы приглашения. Из тех, кто не работает на кафедре, пришли лишь четверо. Многих из остальных, видимо, не интересуют ни университет, ни кафедра, ни мы, ни другие выпускники. На этом фоне своим поведением сильно отличался выпускник нашего университета Аскар Акаевич Акаев, который немолод, но приехал на съезд с женой из Москвы. Он выступил и долго объяснялся в любви к своей Альма-матер и своим учителям. А теперь вопрос: как Вы думаете, что первично: то, что он был Президентом Академии наук Киргизии, а потом и самой Киргизии, и поэтому ему есть чем годиться и демонстрировать эту гордость окружающим, или наоборот – он занимал эти высокие должности, так как всю жизнь был неравнодушным человеком?
25. Несколько слов об индивидуальных образовательных траекториях. О таких траекториях для научно-педагогических работников вузов я написал выше. Здесь же я хочу обратить внимание на то, что студенты в рамках индивидуальных образовательных траекторий могут «ловко» выбирать предметы, которые им нравятся, а в лучшем случае, после окончания бакалавриата многие из них вдруг понимают, что предметы-то они выбирали те, но специальность-то выбрали не ту, и в магистратуре, если они туда идут, выбирают другую специальность, благо закон это позволяет. Это во многом связано с тем, что в данном случае студент движется «от входа к выходу» – от предметов к специальности, если же он будет двигаться «от выхода к входу» – от специальности, которую хочет получить, то свобода выбора предметов для ее освоения резко уменьшится.
26. У меня есть что еще написать по рассматриваемой теме, что, возможно, в дальнейшем и сделаю, но сейчас я останавливаюсь, так как и так этот текст содержит уже немыслимое для многих число букв. Для тех же, кому интересно узнать подробности о том, как я из самозванцев стал официально признанным наставником, может почитать еще.
27. С 23 по 25 августа 2023 года проходил онлайн-интенсив ITMO.Expert на тему «Наставничество как вид лидерства». Мне предложили выступить на его открытии с приветственным словом. Выступал минут двадцать и кое-что из изложенного выше сказал.
P.S. На конференции по образованию YaC/e 2023 научный руководитель программы «Приоритет-2030» Андрей Евгеньевич Волков наконец-то приблизил вопрос о столь любимых многими индивидуальных образовательных программах (траекториях) к реальности: так учиться, а не отбывать номер, чтобы иметь больше времени для работы в ИТ-компаниях, могут только очень мотивированные студенты, число которых, по его мнению, не превышает 20%!